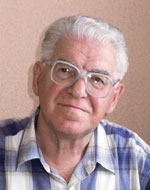В последние годы состояние мирового энергетического хозяйства определяется комплексом факторов разнонаправленного действия. Среди них основными являются: (1) ускорение темпов технологических и социальных изменений (научно-технический прогресс, эрозия веками устоявшихся систем ценностей, традиций), (2) сокращение добычи на традиционных месторождениях, переход к освоению более дорогих в разработке залежей ископаемого топлива, (3) наращивание потребления локальных источников энергии – тяжелой нефти, нетрадиционного газа, горючих сланцев, торфа, (4) развитие сфер возобновляемых источников энергии (ВИЭ), (5) повышение энергоэффективности, (6) трансформация структуры производства и потребления первичной энергии (путей и способов добычи, переработки, доставки и сбыта топливно-энергетических товаров), (7) обострение политической ситуации в нефтедобывающих регионах мира и вблизи важных маршрутов транспортировки энергоносителей (военные события в Сирии, политический курс курдов на национальное обособление в границах территории, богатой водными ресурсами и дешевой в производстве нефтью), (8) увеличение рисков и тяжести последствий антропогенных и природных катастроф и, как следствие, ужесточение экологических норм и требований по безопасности.
БОРЬБА ЗА ГЛОБАЛЬНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ
В последние несколько лет мироустройство претерпевает серьезную деформацию. США, руководствуясь концепцией «Америка – прежде всего» и опираясь на агрессивное большинство национального конгресса, проводят политику силового «взлома» международного права (с нарушением договоров, дипломатических иммунитетов, навязыванием другим странам нелегитимных ограничений). В антироссийской информационной войне применяются меры давления по широкому спектру направлений, включая культуру, религию, науку, спорт. Борьба ведущих стран Запада за глобальное доминирование в значительной мере влияет на процессы развития мировой энергетики и международной торговли энергоресурсами [1].
ОТ «РЫНКА ПРОДАВЦА» ДО «РЫНКА ПОКУПАТЕЛЯ»
 В последние 10 лет основной прирост глобального спроса на энергоносители обеспечили Китай, а также Индия и Бразилия (около 56 %). В 2016 г. в суммарном потреблении первичной энергии на долю КНР, Индии и Бразилии приходилось более 30 % (в 2006 г. – 23 %). Для сравнения – в США данный показатель составил 17 % (2,3 млрд т н.э.).
В последние 10 лет основной прирост глобального спроса на энергоносители обеспечили Китай, а также Индия и Бразилия (около 56 %). В 2016 г. в суммарном потреблении первичной энергии на долю КНР, Индии и Бразилии приходилось более 30 % (в 2006 г. – 23 %). Для сравнения – в США данный показатель составил 17 % (2,3 млрд т н.э.).
В 2016 г. мировые энергетические потребности (13 276 млн т н.э.) обеспечивались шестью видами ресурсов. Основу спроса составили углеводороды (85 %): нефть (33 % суммарного потребления), газ (24 %) и уголь (28 %). Для крупных ГЭС данный показатель составил примерно 7 %, для атомных электростанций, размещенных более чем в 30 государствах, – около 5 %, для ВИЭ – возобновляемых источников энергии – более 3 %. Ископаемое сырье по-прежнему остается основой энергообеспечения мирового хозяйства, при этом доказанные запасы нефти и газа при современном уровне добычи будут достаточны в течение ближайших 50 лет, угля – 150 лет.
В структуре энергопотребления развивающихся экономик доля низкоуглеродных энергоносителей приблизилась к 12 %, а в развитых странах данный показатель находится вблизи уровня в 20 % ввиду более активного использования атомной энергии и ВИЭ.
В последние годы укореняется тенденция повышения энергоэффективности используемых энергоресурсов и снижения энергозатрат [2]. В 2006 – 2016 гг. при росте мирового ВВП на 26,5 % (в неизменных ценах) глобальное потребление энергии увеличилось лишь на 17,8 %, т. е. энергоемкость продукции снизилась почти на 1/10. Приращение спроса на первичную энергию происходило на фоне консервативной энергетической политики добывающих стран, не стремившихся адекватно регулировать производство и вывоз ископаемого топлива.
Так, в 2006 – 2010 гг. темпы прироста потребления находились на уровне более 2 %, и первая половина последнего десятилетия характеризовалась устойчивым дефицитом энергоресурсов, составлявшим в среднем по г. 130 млн т н.э. (1,2 % мирового производства – «рынок продавца»).
В 2011 – 2015 гг. ситуация изменилась на противоположную: темпы прироста потребления за последние три года уменьшились до 1 %, и дефицит сменился избытком. Производство превысило спрос почти на 90 млн т н.э. в год, при этом нефтяные цены снизились примерно в три раза против рекордных уровней 2008 г. и 2012 г. (сложился «рынок покупателя»). Тем не менее до середины текущего десятилетия страны нетто-экспортеры топливно-энергетических товаров не предпринимали мер по стабилизации рынка, несмотря на очевидные издержки и потери национальных бюджетов, которые возникли из-за сдвига рыночного равновесия.
В 2016 г. была отмечена нехватка энергоресурсов в 100 млн т н.э., однако это явилось результатом регионального сокращения добычи угля в Китае и, таким образом, имело узко-отраслевой, страновой характер (без учета китайского угля условный дефицит энергоносителей в среднем, за период оценивается лишь в 25 млн т). Отметим также снижение добычи твердого топлива в Великобритании (в 2006 г. – 11,4 т н.э., в 2016 г. – 2,6 млн т н.э.) и остановку последних шахт в апреле 2017 г. В итоге данная отрасль национальной экономики, в прошлом – одна из базовых, завершила свой более чем 200-летний путь.
(в 2006 г. – 23 %). Для сравнения – в США данный показатель составил 17 % (2,3 млрд т н.э.).
В большинстве же государств рост производства основных видов продукции в 2016 г. был относительно скромным. Добыча нефти расширилась на 0,5 % за счет стран Ближнего и Среднего Востока (в Иране – после отмены санкций, Саудовской Аравии, Ираке [3]) при сокращении объемов добываемого сырья в Китае и США. Производство газа увеличилось также примерно на 0,5 %, что стало слабейшим показателем за последние три десятилетия. Некоторое оживление в развитие газового сектора внесла Австралия, приступившая к эксплуатации новых мощностей по производству СПГ, что способствовало увеличению на 4,8 % объемов межрегиональных поставок этого вида топлива [4].
СДВИГ В СТРУКТУРЕ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА
С развитием науки и техники изменяется глобальная структура энергопотребления – растет значимость электрической энергии, выработка которой в 2006 – 2016 гг. увеличилась на 29 %. Для сравнения: в этот же период производство базовых видов углеводородного топлива расширялось вдвое медленнее – примерно на 15 %. В мировом масштабе важными источниками генерации являются атомные электростанции и крупные ГЭС (мощностью более 10 – 25 МВт).
В 2016 г. производство электроэнергии с использованием АЭС увеличилось на 1,3 % в основном за счет Китая, реализующего долгосрочную государственную программу развития данной отрасли. Лидерами по масштабам выработки атомной электроэнергии оставались США (32,4 % мировой генерации) и Франция (15,4 %). Германия по-прежнему оставалась приверженной курсу на сворачивание атомной генерации по мере окончания сроков эксплуатации действующих АЭС.
Япония, обладавшая 54 ядерными реакторами, которые были остановлены после трагедии на АЭС «Фукусима-1» (март 2011 г.), так и не возобновила их работу в полномасштабном формате. В 2015 г. начался демонтаж блоков, находившихся в эксплуатации более 40 лет. Однако ежегодная закупка угля и газа на 30 млрд долл. осложнила платежный баланс страны, и в настоящее время наметилось возрождение национальной атомной отрасли (до 2011 г. на ее долю приходилось до 30 % генерации электроэнергии). Нарастить выпуск Япония сможет после выполнения комплексных работ по повышению безопасности АЭС в соответствии с «пост-фукусимскими» требованиями МАГАТЭ. В настоящее время на 3-х станциях начали функционировать 5 энергоблоков, а к 2019 г. в эксплуатацию могут быть введены еще 10 реакторов.
В 2015 – 2016 гг. выработка электроэнергии на крупных ГЭС увеличилась на 3 %. В страновом разрезе лидировала КНР (29 % глобального производства), за ней следовали Канада (10 %), США (7 %), Россия (5 %) и Норвегия (4 %).
В глобальном энергетическом хозяйстве наибольший прогресс в развитии был зафиксирован в сфере ВИЭ (в 2016 г. – рост на 14,4 %). Лидер сектора – ветроэнергетика. В истекшем году на ее долю приходилось около 50 % произведенной ВИЭ-энергии, тогда как удельный вес солнечной энергии составил 18 % (без учета крупных ГЭС) [5].
В целом, в наступившем веке выработка электроэнергии увеличивалась, но темпы роста замедлились. В текущем десятилетии государства ОЭСР утратили мировое лидерство в секторе генерации. Данные, характеризующие производство и потребление основных видов энергоносителей в мире, представлены в табл. 1, 2, 3 и на рис. 1.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
Углеводородные виды топлива являются доминирующими в соответствующем сегменте международной торговли. Стабильный спрос на них обусловлен не только энергетическими потребностями, но и нуждами перерабатывающего сектора. Сохранение данной ситуации просматривается на период до середины столетия.
Под натиском новых знаний и технологий, в условиях социокультурных сдвигов, обострения борьбы за глобальное и региональное доминирование происходили не только количественные, но также качественные изменения структуры производства, транспортировки, распределения и потребления энергоносителей. Многие государства ОЭСР демонстрировали сокращение внутренних потребностей в энергии. Они активно вовлекали в промышленный оборот местные виды топлив и ВИЭ с целью сдерживания спроса на углеводороды.
Развивающиеся экономики наращивали энергопотребление при развитии транспорта, инфраструктуры, индустриального сектора, для улучшения условий жизни населения. В настоящее время на их долю приходится около 60 % глобального спроса на первичную энергию. В ходе кооперации с развитыми государствами данная группа стран перенимала современные энергетические технологии, переходила на более высокие ступени развития энергетики с меньшими затратами. Примером этому могут служить Китай, Индия.
В 2016 г. и в завершаемом 2017-м коллективный Запад продолжал реализовывать энергетическую политику «двойных стандартов», отходя от норм и правил международной торговли, извращая принципы экономической целесообразности, добросовестной конкуренции, предложенные миру теорией и практикой капитализма. Например, населению стран ЕС под различными предлогами настойчиво предлагалась и продолжает навязываться идея о необходимости доплачивать за развитие конкуренции (увеличение числа поставщиков, развитие инфраструктуры и др.) путем закупок более дорогих топливно-энергетических товаров в США, других государствах, кроме России [7].
Ввиду несовпадения мест традиционной добычи углеводородов и их потребления около 40 % этих топливных ресурсов перераспределяется через каналы международной торговли, являясь предметом сложных экономических и политических межгосударственных отношений. В последние несколько лет данная сфера деятельности в очередной раз оказалась в центре геополитики. 
Несмотря на разбалансировку спроса и предложения на мировом и региональных энергетических рынках ведущие добывающие страны (Россия, государства Ближнего и Среднего Востока, Австралия, Индонезия, Канада) стремились не только удержать, но и укрепить свои рыночные позиции [7].
Отдельные развивающиеся страны-импортеры (Китай, Индия, а также Турция и др.) активно расширяли внешние закупки энергоресурсов, обеспечивая растущие внутренние потребности.
Развитые государства по-прежнему прилагали усилия к стабилизации и сокращению энергопотребления и, соответственно, к снижению ввоза нефти и газа. Например, в 2006 – 2016 гг. в странах ЕС потребность в энергоресурсах снизилась почти на 8 % – до 927 млн т н.э., в Японии – на 5 % (до 403 млн т н.э.). В два раза в абсолютном выражении сократился ввоз энергоресурсов в США (с 677 до 339 млн т н.э. в год). Но этот скачок был обеспечен не столько комплексными мерами по повышению энергоэффективности, а прежде всего политикой по развитию внутреннего производства. В итоге за последние 10 лет зависимость США от внешних поставок снизилась с 29 % до 10 – 15 %.
Показатели, характеризующие экспортные возможности и импортные потребности крупнейших участников глобального энергетического рынка, представлены в табл. 4 и 5.
Энергетические балансы крупнейших производителей и потребителей энергоресурсов представлены в табл. 6.
В 2006 – 2016 гг. доля нефти и нефтепродуктов, направляемых на экспорт (относительно добычи), увеличились почти на 10 п.п. – до 74 % по нефти и до 34 % – по нефтепродуктам1. Все ведущие страны-экспортеры сумели нарастить вывоз. Среди крупнейших государств-импортеров объем ввоза увеличили страны ЕС, США, Китай и Индия, сократили – Япония и Сингапур. Соответствующие данные приведены в табл. 7.
В 2006 – 2016 гг. в газовой отрасли доля экспорта выросла на 5 п.п. и достигла 34 % суммарного производства. В абсолютном выражении вывоз газа увеличился на 44 %, при этом поставки по трубопроводам расширились на 37 %, в виде СПГ – на 64 %. В международных поставках газа на экспорт удельный вес СПГ увеличился с 28 % до 32 % (в 2016 г. в мире использовалось около 430 морских танкеров-газовозов).
В 2016 г. в секторе трубопроводных поставок около 60 % экспорта приходились на четыре государства – Россию (26 % суммарного вывоза трубопроводного газа), Норвегию (15 %), Канаду (11 %) и США (8 %). Крупными участниками данного сегмента являлись Нидерланды (7 %), Алжир (5 %), Катар (около 3 %), Малайзия (2 %) и Индонезия (1 %).
В секторе сжиженного природного газа лидерами по вывозу оставались Катар (30 % суммарных поставок СПГ), Австралия (16 %), Малайзия (9 %), Индонезия (6 %), Алжир и Россия (по 4 %).
В 2016 г. к основным импортерам относились Япония (10 % суммарного ввоза газа, все – в виде СПГ), ФРГ (9 %, все – по трубопроводам), США (8 % в основном по трубопроводам), Китай (7 %, половина – в виде СПГ), Италия (6 %, в основном по трубопроводам), Турция (4 %, в основном по трубопроводам) и Республика Корея (4 %, все в виде СПГ). Данные, характеризующие международную торговлю газом, приведены в табл. 8.
Стоимостные показатели основных энергоносителей
В последние несколько лет мировые цены на нефть и стоимостные параметры других видов ископаемого топлива (газа, угля и уранового концентрата) оставались нестабильными, но амплитуда изменений сократилась.
В середине 2017 г. цена на основные сорта нефти возвратилась к уровням 2015 г. (предшествовавшим снижению), а к концу года возросла, что отразилось и на аналогичных показателях по другим видам топлива (табл. 9).
Согласно прогнозам Всемирного банка по товарным рынкам, опубликованным годом ранее, в 2017 г. цена на нефть ожидалась вблизи отметки в 53 долл. США/барр. (против 43 долл. США/барр. в 2016 г.), что подтвердилось на практике. В 2018 г. специалисты указанной организации ожидают рост данного показателя до 56 долл. США/барр. ввиду повышения устойчивости спроса, снижения запасов2, политики ОПЕК и ряда стран-экспортеров по сдерживанию производства3. Что касается цен на газ, то в 2018 г. прогнозируется их повышение на 3 % [8].
Основные центры мировой энергетики
Многие годы к ведущим участникам мирового энергетического рынка относятся Китай, США, Россия, а также страны ЕС, которые стремятся достичь единства при реализации энергетической политики союза. В 2016 г. на их долю приходилось около 49 % мирового производства и 58 % потребления энергоресурсов. Обращает на себя внимание Россия, традиционно лидирующая по объемам экспорта, в то время как остальные указанные экономики являются нетто-импортерами (рис. 2 и 3).
Китай – «мотор» и «балансир» рынка энерготоваров
В конце 2000-х гг. Китай догнал, а затем и перегнал США по потреблению первичной энергии. КНР превратилась в «мотор» и «балансир» глобального рынка энергетических товаров, производя и импортируя их значительные объемы. В 2016 г. Китай расширил внутренний спрос на первичную энергию лишь на 1,3 % (наименьший показатель за последние два десятилетия), но при этом использовал половину угля, добытого в мире. Кроме того, страна обеспечила 25 % глобальной генерации электроэнергии с использованием крупных ГЭС (в 2006 г. – 15 %) и около 20 % выработки энергии на базе ВИЭ, обогнав США.
Отметим, что ситуация в угольной отрасли КНР имеет тенденцию к обострению. Это обусловлено экологическими причинами и рыночной конъюнктурой. Так, в 2011 – 2015 гг. цена на коксующиеся угли снизилась в три раза – с 296 долл. США/т до 102 долл. США/т, на энергетические – в два раза – со 120 долл. США/т до 57 долл. США/т. В феврале 2016 г. Китай принял решение о резком (на 500 млн т в год) сокращении добычи в период до 2020 г. Работа шахт была ограничена 276 днями в году (вместо прежних 330). В результате к концу 2016 г. цена на коксующийся уголь поднялась до 300 долл. США/т, и для 800 наиболее современных шахт количество рабочих дней было восстановлено, но ситуация продолжает оставаться неустойчивой.
РОССИЯ УСИЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
В производственном смысле 2016 г. стал успешным для отечественного ТЭК и энергетической дипломатии страны. Россия вышла на рекордные показатели по добыче нефти (547,5 млн т, что примерно соответствует аналогичному показателю для Саудовской Аравии) и вошла в пятерку мировых лидеров по производству угля (385,7 млн т). В газовом секторе впервые за последние три года наша страна сумела обеспечить положительную динамику. В 2016 г. было добыто 640,2 млрд м3 газообразного топлива, что стало вторым показателем в мире после США [10].
В области международной энергетической политики истекший период (конец 2016-го – 2017 гг.) явился буквально «прорывным» для нашей страны, которая проявила инициативу и предприняла меры по регулированию нефтяного рынка. В.В. Путин выступал с этими призывами на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле в октябре 2016 г. и на других форумах, неоднократно контактировал с наследным принцем и королем Саудовской Аравии [11]. Эти усилия завершились подписанием в начале декабря 2016 г. 12 странами ОПЕК и 11 не участвующими в Организации экспортерами «Меморандума о сокращении добычи нефти» на 1,8 млн барр. в сутки (это примерно 1,9 % мировой добычи). Важные обязательства инициативно взяла на себя Россия – сокращение добычи на 300 тыс. барр. в сутки (фактически перевыполнив эти ограничения в середине текущего года до 346 тыс. барр.).
Соглашение не обеспечило существенного роста цен, но оно приостановило их падение и вывело на уровень 2015 г., предварявший их спад. В мае 2017 г. участники соглашения на совещании в Вене подтвердили его дальнейшее действие на период до конца марта 2018 г. (не исключая и его будущее продолжение). В конце 2017 г. цена на нефть продолжала укрепляться.
Ярким событием, еще более упрочившим позиции России в деле организации рынка, явилась «Московская энергетическая неделя», проведенная в начале октября 2017 г. и явившаяся коммуникационной площадкой для официальных руководителей государств и 480 представителей делового сообщества из 150 российских и 76 зарубежных компаний из 28 стран. На пленарном заседании с масштабной речью выступил В.В. Путин, призвав всех объединить усилия для построения устойчивого энергетического будущего вопреки санкциям.
В дни форума произошло еще одно важное событие, обозначенное саудовской стороной как «историческое» – визит в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда. Немаловажно то, что два крупнейших мировых продуцента нефти – Россия и Саудовская Аравия, добывающие около 1/3 нефти в мире, установили прямое взаимопонимание по многим вопросам, расширив этим свое взаимодействие [11, 13]
Действия по стабилизации рынка нефти странами ОПЕК и группой экспортеров были проигнорированы США, которые отказались сократить добычу сланцевых углеводородов [14]. Более того, воспользовавшись ситуацией, национальные компании США увеличили до 619 ед. число действующих буровых установок (на 40 % больше, чем годом ранее), что позволило стране расширить производство жидких углеводородов на 0,6 млн барр/сут. Кроме того, президент США Д. Трамп подписал указ о развитии шельфовой добычи в рамках эгоистической стратегии «Америка – прежде всего», отменивший ряд критически важных ограничений для национальных нефтегазовых компаний [15].
Одним из важнейших каналов поставки российского газа в объединенную Европу является трубопровод «Северный поток-1» пропускной способностью 55 млрд м3 в год. Данная трубопроводная система начинается в Выборге и заканчивается в германском Грайфсвальде. Далее топливо поступает в другие страны Западной Европы. Для оперирования значительными объемами газа Германия использует крупнейшее в регионе подземное хранилище газа (ПХГ) «Реден» объемом более 4 млрд м3 (площадью 8 км2). Ряд западноевропейских стран заинтересованы в расширении торговли газом с Россией. В апреле 2017 г. пять компаний ЕС подписали соглашение о финансировании половины стоимости строительства следующей ветки трубопровода – ГТС «Северный поток-2» стоимостью около 9,5 млрд долл. США, мощностью 55 млрд м3 в год, протяженностью 1,22 тыс. км. Ввод в эксплуатацию этого трубопровода намечен на 2019 г. Однако на реализацию этого российско-европейского проекта негативное влияние могут оказать США [16].
Таким образом, в текущем десятилетии трансформация мировой энергетики продолжалась под влиянием разнонаправленных движущих сил в условиях обострения и кратковременных сглаживаний противоречий между ведущими участниками рынков топливно-энергетических товаров.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…
Говоря о перспективах мирового энергетического рынка на «Московской энергетической неделе», Президент РФ В.В. Путин отметил, что, по оценкам экспертов, он будет расширяться, поскольку сегодня до двух миллиардов людей не имеют полноценного доступа к источникам энергии.
«В предстоящие десятилетия ситуация будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков. География и структура спроса на энергию, прежде всего, сместятся в сторону АТР, – подчеркнул он, – вместе с тем следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии. Практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе – возобновляемых источников. На них приходится более половины всех вводимых в мире мощностей генерации… Россия экспортирует энергоресурсы в десятки стран и не раз подтверждала статус надежного стабильного партнера», – напомнил глава государства [12].
По мнению ряда западных экономистов, сочетание долгосрочных изменений и краткосрочной коррекции будет во многом определять энергетический рынок в ближайшие годы.