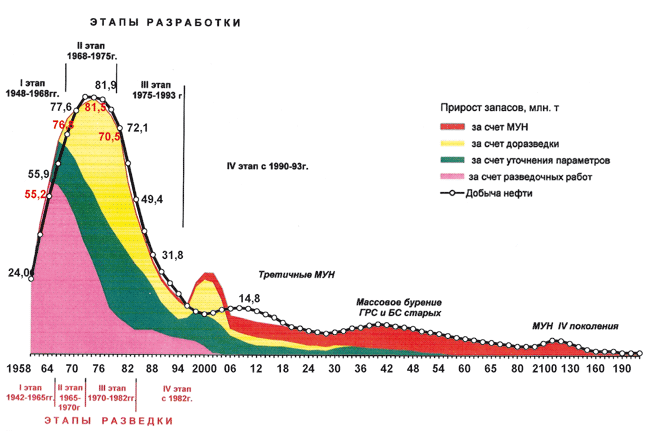Наш вывод – только принципиально новые технологии добычи и использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) планеты позволят обеспечить возрастающие потребности населения в условиях цивилизованной торговли между странами и координации работ по их добыче на мировом уровне.
В этих условиях состояние нефтяной промышленности интегрально определяет положение воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ) и уровень КИН. Республика Татарстан является типичным старым районом нефтедобычи с высокой степенью опоискованности недр – разведанность здесь самая высокая среди регионов России. Поэтому за счет геологоразведочных работ (ГРР) обеспечивается не более 20% от общего ежегодного прироста запасов. Остальная часть приходится на повышение КИН, переоценку запасов и доразведку действующих месторождений.
Политизированная методология
Положение с КИН в РФ по сравнению с наиболее развитой страной – США показано на рис. 1.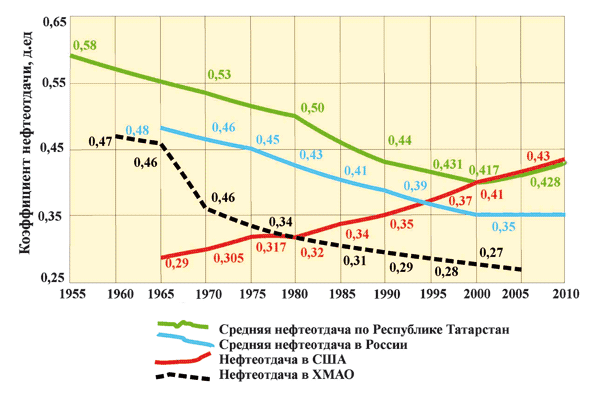
Главной причиной разночтения является методология утверждения КИН. В США КИН принимается в полном соответствии с проектами разработки и заложенными в них технологическими решениями. Улучшаются со временем технологии – растет КИН. В 70-х годах прошлого века американские специалисты считали предельно возможным достижение КИН – 0,5 (к чему они сегодня уверенно идут), а теоретически мыслимым – 0,6. А в СССР КИН был идеологизирован. Считалось, чем выше КИН мы примем, тем лучше. Это будет обязывать предприятия стараться его достичь. При подготовке одного из съездов КПСС даже предлагалось в его решениях директивно записать достижение КИН в нефтяной отрасли 0,6. Нефтяникам с большим трудом удалось исключить этот пункт из проекта решения съезда.
Так, в 50-х годах прошлого столетия по Ромашкинскому месторождению был принят КИН – 0,6. Проведенный в 70-х годах прошлого столетия анализ показал, что ранее принятый проектный документ обеспечивал КИН не 0,6, а всего около 0,3. Последний проектный документ предусматривает достижение КИН – 0,528 с общим фондом скважин более чем в 3 раза выше предусмотренного для КИН – 0,6. Похоже, что этот урок и эти ошибки прошлого сегодня мы начали забывать и снова принялись за старое – завышать КИН в проектах разработки. Об этом говорят огромные приросты запасов за счет КИН, принятых в последние годы на ЦКР (табл.).
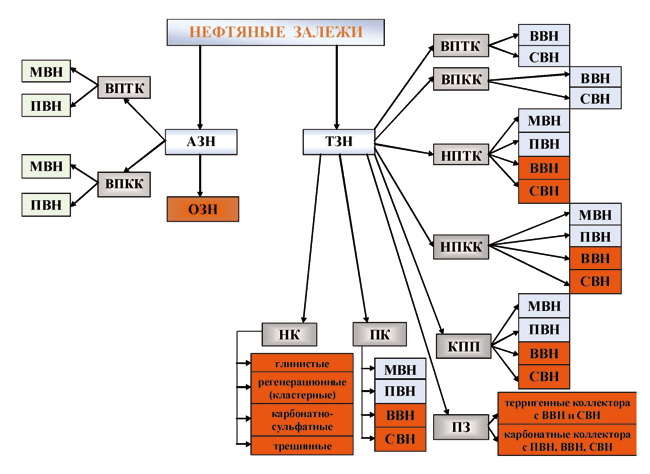
Но есть и другие причины снижения КИН. В настоящее время проектирование разработки ведется по регламентам, утвержденным в 70-х годах прошлого века. Однако понятия и принципы рациональной разработки нефтяных месторождений, сформированные в советское время для командно-административных отношений, в новых условиях оказались неработающими. Сегодня также не действуют «Правила разработки нефтяных месторождений» советского периода. Таким образом, отрасль оказалась без фундаментальной основы проектирования рациональной разработки нефтяных месторождений [2].
Нефтевытеснение крупным планом
Складывается парадоксальная ситуация: техника и технология нефтедобычи неуклонно развиваются, а нефтеотдача снижается. Основные причины этого:- слабое изучение детального геологического строения нефтяных месторождений (залежей) промыслово-гидродинамическими, промыслово-геофизическими, лабораторными методами и полевыми геофизическими и геологическими методами, причем не только новыми, но и ранее широко применявшимися технологиями, не говоря уже о современных методах исследования пород и насыщающих их флюидов на наноуровне;
- во-вторых, неадекватный реальному геологическому строению подбор технологий разработки и методов увеличения нефтеодачи пластов: у нас до сих пор нет методов и программ подбора необходимых МУН, созданных для геологических условий интересующего нас объекта – в этом главная причина их низкой эффективности и даже неудачного применения;
- в-третьих, невозможность детальной проработки применения современных технологий в связи со сжатыми сроками проектирования разработки и недостаточным финансированием.
- разбалансированность систем разработки за счет вывода в тираж огромного (до 50% и более) эксплуатационного фонда скважин;
- стремление недропользователей в получении максимальной прибыли при наименьших затратах за счет опережающей выработки наиболее продуктивных запасов;
- резкое сокращение применения методов повышения нефтеотдачи пластов и поиска новых эффективных технологий увеличения коэффициентов нефтеизвлечения;
- неэффективный контроль органов контроля (Ростехнадзора, Росприроднадзора) за деятельностью недропользователей в области соблюдения проектных решений, технологических режимов эксплуатации скважин (депрессий, давлений нагнетания и т. п.), объемов и охвата фонда промыслово-гидродинамическими, геофизическими исследованиями, работ по охране недр и отсутствие жестких санкций со стороны государства за нерациональное использование недр (когда контроль ведется формально);
- единая (плоская) шкала налога на добычу нефти различного исходного качества, продуктивности месторождений и стадии разработки.
В 60-х годах прошлого столетия геологи Татарстана ввели затем укоренившееся в бывшем СССР деление разведанных запасов на 2 крупные группы: активные (АЗН) и трудноизвлекаемые запасы нефти (ТЗН). Темпы выработки последних, обычно, в 5 – 10 раз ниже, чем АЗН.
За более чем 40-летний период ситуация существенно изменилась. Небольшую часть ТЗН (залежи нефтей повышенной вязкости в высокопроницаемых пластах) перевели в категорию АЗН за счет освоения новых технологий, часть уже готовы перевести. Но за это время группа ТЗН пополнилась новыми категориями запасов (15 групп): низкопроницаемые и плотные коллекторы; нетрадиционные коллекторы; а также проблемные залежи, которые мы можем разрабатывать лишь на малоэффективных природных режимах с дебитами скважин до 1 и реже 2 – 2,5 т/сут (т. е. в условиях сегодняшнего налогообложения разработка их нерентабельна). Появление таких категорий ставит вопросы по изысканию технологий их разработки в весьма сложных геологических условиях. Эти работы нужно начинать с нуля (именно с фундаментальных научных исследований), затем проводить опытно-промышленные работы (ОПР) (рис. 2).
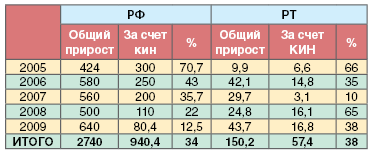
КИН = Кв • Кзав • Кохв
Причем Кв (определяется в лабораторных условиях при бесконечной промывке пласта) можно считать сегодня максимально возможным значением КИН, а он на месторождениях Республики Татарстан изменяется от 0,287 до 0,787. Таким образом, мы можем в РТ иметь максимальную конечную нефтеотдачу по разным категориям запасов от 0,3 до 0,6 – 0,7.
Желания и возможности
Абсолютное большинство технологий создавалось преимущественно для повышения охвата залежи заводнением. В начальной стадии разработки эта задача решалась главным образом через нагнетательные скважины, так как через них обеспечивалось вытеснение нефти водой, и одна нагнетательная скважина обеспечивала работу 4 – 6 добывающих. Затем, по мере роста числа обводненных скважин, возрастала доля работ на высокообводненных добывающих скважинах по ограничению водопритоков из заводненных интервалов и перераспределению добычи на незаводненные интервалы разреза. На поздней стадии разработки, когда весь фонд добывающих скважин обводнен и одна нагнетательная скважина обслуживает 1,5 – 2 добывающих, объем работ по МУН распределяется между добывающими и нагнетательными скважинами практически поровну. Все работы по залежам в терригенных коллекторах сводятся к подключению не принимающих воду интервалов разреза в нагнетательных и отключению (блокированию) обводненных интервалов в добывающих скважинах.Первоначальный охват заводнением при базовых технологиях составляет, в зависимости от степени неоднородности и расчлененности эксплуатационного объекта, от 30 до 70%. Причем чем реже сетка скважин, тем ниже охват заводнением.
Технологий МУН, апробированных и внедренных в РТ, весьма много, и они продолжают создаваться. Насчитывается более 130 технологий, реализуемых на добывающих, и более 100 – на нагнетательных скважинах. Большинство из них – это совершенствование первичных (базовых) методов, которых насчитывается около 30. Из всех технологий большинство (более 75%) работает на повышение охвата заводнением, а остальные относятся к комплексным, и только единицы работают на повышение нефтевытеснения.
Следующей составляющей применения МУН являются технические возможности. Сегодня в мире нет технических средств для достаточно эффективной эксплуатации залежей нефти в плотных, неоднородных карбонатных пластах, насыщенных вязкой нефтью; проблемных залежей в трещинных коллекторах, пластах на больших глубинах, нетрадиционных коллекторах. По мере развития техники и технологий будут представляться новые возможности освоения таких залежей, и КИН со временем будет расти.
Кстати, значения КИН не зависят от точности определения балансовых запасов по объекту. Важно правильно определить кондиционные значения параметров пластов, из которых мы можем получить промышленные притоки нефти. Из геологических ресурсов недр с введением кондиционных значений параметров пластов мы выделяем балансовые запасы (большинство специалистов и даже официальные органы их называют геологическими, но это неверно, так как геологических запасов мы не считаем – мы их не знаем). По мере совершенствования техники и технологий разработки кондиционные значения параметров коллекторов будут снижаться, что приведет к увеличению балансовых, а следовательно, и извлекаемых запасов. При этом мы будем иметь уже другую геологическую модель месторождения. На Ромашкинском месторождении при снижении кондиционных значений проницаемости с 30 мПа•с до 1 мПа•с, когда с ГРП и другими методами уже получены притоки нефти, применив новую методологию построения модели, по оценкам, можно увеличить балансовые запасы на 15% (рис.3).
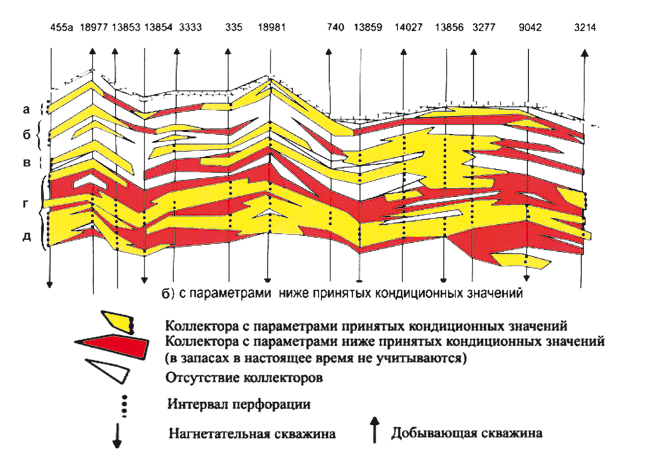
Поэтому на ТО ЦКР по РТ мы приняли четкие решения: какие методы относить к МУН, а какие к ОПЗ (рис. 4).
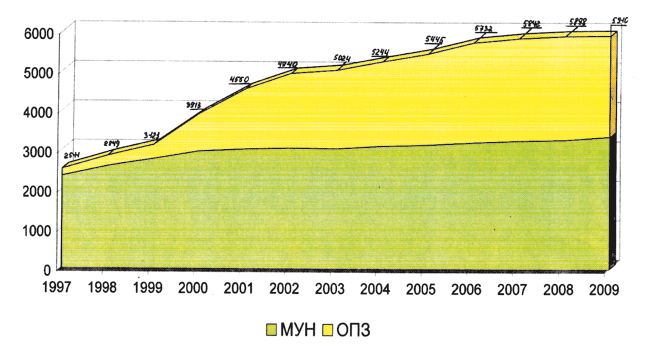
Непроторенными тропами
Принятая сегодня в РФ практика освоения нефтяных месторождений стихийная, не целенаправленная и даже не осмысленная. Достаточно отметить, что в принятой в прошлом году Правительством РФ энергостратегии до 2030 г. предусматривается достижение в среднем позорных значений КИН – 37 – 38% (которые мы уже имеем). Это только подтверждает намерение государства по-прежнему вести дела в отрасли по принципу – пусть идет, как идет. Но так не получается. Похоже, правительство само призадумалось: а так ли мы идем? Поэтому поручило разработать Генсхему развития отрасли до 2020 г., пригласив специалистов, способных смоделировать уровни добычи. Результаты этого оказались убойными. При сохранении такого положения добыча нефти по РФ в 2030 г будет более чем вдвое ниже запланированной. Вывод совершенно справедливый, и он говорит о том, что если мы хотим добывать в РФ нефти в количестве, равном среднедушевому потреблению в США: на уровне 430 – 450 млн тонн в год, нужно кардинально менять позицию (а не политику, которой практически нет) государства в нефтяной отрасли. Нужно наконец-то перестать бездумно проедать огромные запасы и огромный потенциал нефтедобычи, накопленные в советский период. Тогда реально обеспечивалось расширенное воспроизводство запасов нефти, были сформулированы и выполнялись требования по рациональной разработке месторождений, была целеустремленная и внятная политика государства в развитии геологической, нефтяной и газовой отраслей. Нынешнее кажущееся благополучие с воспроизводством запасов, докладываемое на высшем уровне, во многом складывается за счет принятия завышенных КИН на действующих и новых месторождениях (наступаем на те же грабли), из-за снижения требования ГКЗ при принятии на учет разведанных запасов в госбаланс и по другим причинам, достаточно полно освещенным в статье двух докторов наук: геолога и экономиста [3].Поэтому необходимо перерабатывать ЭС-2030 РФ, о чем мы уже писали [4], и начинать целенаправленную созидательную работу государства по формированию эффективной и внятной политики по созданию достаточно комфортных (хотя бы на уровне советского периода) условий для развития отрасли. Начать надо с работы по составлению «кодекса о недрах». Затем сформулировать общепринятое понятие о рациональной разработке нефтяных месторождений и принципы рациональной разработки в рыночных условиях, принять давно подготовленный закон о нефти и газе. Наконец, прекратить практику удручающе действующего на отрасль перманентного ужесточения налогового пресса при адресном налоговом стимулировании добычи нефти (а не действиях общеотраслевого системного характера) определенных НК. Необходимо уделять особое внимание созданию условий для налоговой стимуляции развития современных третичных и четвертичных МУН (последние – на отработанных участках с остаточными запасами нефти). При этом НДПИ и экспортную пошлину на дополнительно добытую за счет МУН нефть на действующих месторождениях следует обнулить. И полностью освободить от всех налогов (кроме налога на прибыль), на период полной окупаемости, новые крупные проекты, связанные с широким внедрением дорогостоящих методов теплового, газового, водогазового, комплексного воздействия, или крупные проекты довыработки остаточных запасов. Только в этом случае в РФ будет ощутимо реальный, не бумажный, прогресс в повышении нефтеотдачи. Министерство природных ресурсов должно понять необходимость государственного финансирования фундаментальных исследований в области повышения нефтеотдачи за счет средств на ГРР, так как вопрос повышения КИН является второй (после традиционных ГРР) составляющей ВМСБ.
Проведенный нами анализ показал, что во всем мире новые методы нефтедобычи стимулируются. Только Россия является не совсем приятным исключением из этого правила. Поэтому наши результаты, по сравнению с их хорошими, куда более скромные. И. Даль написал: «Только расходы создают доходы». Истина простая, но совершенно непонятная и неприемлемая для наших чиновников всех уровней.
При таких условиях невозможно сократить отставание от Запада (надо хотя бы постоянно его не увеличивать!) в части фундаментальных и прикладных исследований по изучению деталей геологического строения и процессов нефтевытеснения в разнообразных геологических условиях. Ведь результаты подобных работ нельзя, да и не нужно, покупать на Западе, так как они для нас не подойдут, поскольку среди месторождений нет даже двух одинаковых. Исследования необходимо делать самим. Но условий для этого просто не создано. А ведь у страны есть печальный опыт закупки нового оборудования в рыночные годы на Западе. Внешне за счет этого вроде бы сократилось наше отставание по отдельным видам оборудования на 30 – 40 лет. Но сложившаяся ситуация в промышленности уже не позволяет наладить выпуск такого оборудования в РФ в обозримой перспективе (по крайней мере, до 2030 г.) (слишком сильно отставание и, главное, сказывается отсутствие желания производить у себя тогда, когда проще купить).
Инновации и нанотехнологии – ключ к успеху
Кардинальное решение проблемы рациональной разработки нефтяных месторождений с достижением высокой нефтеотдачи, соответствующей уровню науки и техники XXI столетия, можно осуществить путем инновационного проектирования разработки.Инновационный проект – это маленький НИР по конкретному месторождению. Для его выполнения нужно в 3 – 5 раз больше времени (2,5 – 3 года) и в 10 раз больше средств. Для этого в Республике Татарстан создана межотраслевая лаборатория (МОЛ) для аналитических работ, сформирован коллектив научно-внедренческого предприятия «Волна» для проведения ОПР по отработке новых технологий. Подобный подход необходим и для всей России, возможно, на условиях частно-государственного партнерства, в 2011 – 2012 гг. для проведения НИР и разработки Национального стандарта по инновационному проектированию просто необходима государственная поддержка.
В настоящее время основное внимание большого числа исследователей направлено на создание новых технологий МУН и их разновидностей, хотя их уже разработано немало. Гораздо меньшее, чем необходимо, внимание уделяется углубленному изучению геолого-физических характеристик объектов применения МУН и определению оптимальных условий внедрения конкретных технологий на реальных объектах. Только соответствие возможностей (механизмов воздействия) МУН геолого-физической характеристике участков может дать наиболее высокие результаты. Однако подобных исследований крайне мало. Без оптимизации условий применения новых технологий с привязкой к конкретным объектам, т. е. выбора технологий для внедрения на конкретном участке нельзя в полной мере реализовать возможности МУН. Более того, можно не получить дополнительной добычи нефти или даже иметь отрицательный результат. На нынешнем этапе развития подбор имеющихся или создание новых технологий МУН для конкретных геологических объектов является важнейшей и в то же время слабо изученной проблемой.
Здесь без нанотехнологий не обойтись. Проведенные исследования показали, что фильтрационные процессы в нефтегазовых пластах регулируются именно наноразмерными явлениями. Исследования необходимо начать с изучения деталей геологического строения на наноуровне (наногеология).
Детальные исследования пласта и содержащихся в нем флюидов на наноуровне позволят целенаправленно разрабатывать и применять новые МУН, приспособленные для конкретных геолого-физических условий, что даст возможность повысить эффективность их внедрения. Ожидаемый результат от масштабного применения современных модификаций этих технологий (в т. ч. нанотехнологий) – увеличение КИН для пластов с активными запасами от 40 – 45 до 50 – 70%, с ТЗН – от 20 – 25 до 40 – 45%. При этом в перспективе в среднем удастся выйти на проектный КИН, равный 50%.
Мы поддерживаем идею о том, что государству следует воздействовать на экономику через установление жестких стандартов, показателей, нормативов и осуществлять действенный контроль за их исполнением.
Предлагаемые нами меры помогут в обозримой перспективе решать проблему освоения наиболее сложных категорий трудноизвлекаемых запасов, а в дальнейшем обеспечивать постоянный рост КИН по истощенным месторождениям за счет появления и применения МУН третьего и более высоких поколений. Так, при этом условии, по расчетам, разработка супергигантского Ромашкинского месторождения, вместо ранее планируемого 2065 г., может быть продлена до 2190 г. (рис. 5).